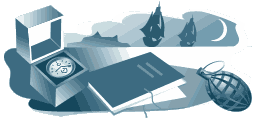Бриг "Мария" уходит
Нельзя быть трусом. Толик это понимал. Но, конечно, мысли его были не о рукописи Курганова. С рукописью — ничего страшного. Отнесет он Арсению Викторовичу третий экземпляр, объяснит, как это получилось — вот и все. Курганов поймет.
А как быть с тем, что он, Толик, ушел с самолета?
Сейчас он уже сто раз пожалел, что не остался с ребятами. Ничего бы не случилось. А если и случилось бы... Все равно, наверно, лучше, чем вот так маяться!
Как теперь посмотрят робингуды, когда он придет в штаб? Да и не придет он. Зачем? Олег все равно не простит...
Мама с Варей куда-то ушли, Толик бухнулся на кровать и разглядывал потолок. Гроза не изменила погоду, было опять душно, в комнате с ноющим звоном летала липкая тяжелая муха.
И мысли были тоскливые, как этот звон, липкие и противные, как эта муха.
...Олег не простит. Он никому ничего не прощает. Потому что справедливость для него сильнее жалости. Вот и Шурке не хотел помочь... “А разве это правильно? — подумал Толик. — Ведь Шурка совсем вымотался! Это уже не справедливость, а издевательство... А еще командир!”
Но тут же Толик одернул себя: “Ну и что? Пускай Олег такой и сякой, а ты... А ты все равно трус!”
Он как бы разделился на двух Толиков. Один хмуро и безжалостно рассуждал про вину другого, а тот, другой, почти не оправдывался, лишь иногда слабо огрызался.
Беспощадный к себе Толик заставил себя встать. Подмел и без того чистый пол, притащил с колонки почти полное ведро, покормил остатками супа Султана, аккуратно расставил на этажерке книги.
Потом он увидел рядом с машинкой новые листы с повестью Курганова — мама сегодня напечатала. Увидел и... не сразу решился их взять. Испытал боязливую неуверенность, даже стыд: словно после трусливого ухода с самолета он потерял право читать книгу о хороших и смелых людях.
Но все-таки взял. Положил листы перед собой на подушку.
“...Федор Иванович Шемелин был тяжело и привычно озабочен. Разгрузка затягивалась. Не было уже и речи о том, чтобы выгрузить шесть тысяч пудов злополучного железа, которое лежало в трюмах на месте балласта. Но необходимо было свезти на берег сарачинскую крупу, привезенную из Японии, а также и соль, которую упрямые в дипломатии, но любезные при прощании японцы преподнесли в виде подарка всем офицерам и матросам. Надо отдать справедливость господину капитану Крузенштерну: это по его убедительному слову все господа офицеры и все служители “Надежды” порешили не продавать соль для своей выгоды, а передать ее на склады Петропавловска для общей пользы.
Но забота господина Крузенштерна о Компании на сих границах и кончилась. Отдавши распоряжение начать разгрузку, матросов на оное предприятие посылал без охоты, говоря, что опасается, как бы не занесли они на берег оспу, от которой может случиться среди местных жителей великий мор, как то было уже в 1767 году.
В словах господина капитана можно было найти известную справедливость, ежели бы осторожность его не казалась чрезмерною.
Заболевший на “Надежде” солдат давно поправился, койка его, белье, платье и все вещи брошены в море, койки служителей да и весь корабль окурены солеными кислотами. Доктор господин Эспенберг твердо уверял, что опасности уже нет. Однако капитан в ответ на замечание Шемелина, что опять страдают интересы Компании, сказал, обращаясь не столько к нему, сколько к окружающим господам офицерам:
— Пришла же охота господину камергеру набирать телохранителей столь поспешно, что не поинтересовался, была ли у каждого из них прежде оспа. Знал же, что угроза сей болезни в японских и китайских водах весьма велика...
Господин капитан-лейтенант Ратманов, офицер хотя и заслуженный, но на всякие непристойные шутки способный, тут же высказался о Николае Петровиче Резанове, что якобы страх того перед бунтом на борту “Надежды” сильнее был, нежели оспа, и чума, и холера, взятые в совокупности. Господин же лейтенант Головачев, человек совестливый, тихо сказал:
— Право же, Макар Иванович, вы опять за свое... Скоро он оставит нас, к чему вспоминать прошлое...
Господин Крузенштерн с равнодушным лицом стоял у фальшборта и в разговор более не вступал.
Шемелин пожал плечами и съехал на берег, от которого
“Надежда”, стоя на якоре, была в близости.
В том, что г-н Крузенштерн не имеет желания предпринимать ни малейших подвигов в пользу Компании, Шемелин убеждался все более. “И не последняя тому причина — ссора его с Начальником”, — думал Федор Иванович.
По справедливости говоря, и господин Резанов не раз подавал поводы для взаимных обид. Однако же не его, купца Федора Шемелина, дело судить прямого начальника своего. Тем более что за главное дело экспедиции — интерес Российско-Американской компании — радеет Николай Петрович всей душой.
А господин Крузенштерн последнее время не стесняется даже и открыто говорить о Компании обидные слова. Недавно, увидав на пристани промышленников с компанейского брига “Мария”, капитан “Надежды” сказал господам Ромбергу и Ратманову:
— Когда мы слышали в Петербурге о богатствах Компании и благородных ее устремлениях, мыслимо ли было предположить, что увидим здесь сие убожество и небрежение начальства к простым ее служителям?
Лейтенант Ромберг, человек воспитанный и малословный, на речь эту лишь развел руками, а Ратманов громко сообщил, что от здешних комиссионеров иного и не ждал, поскольку известно, что “каков поп, таков и приход”. Тут же раздался смех среди матросов. Они хотя и стояли в стороне и к разговору командиров касательства не имели, но острый на слух и на язык квартирмейстер Курганов сказал товарищам что-то о приказчиках здешних явно непристойное.
Промышленные же с “Марии” и правда были частью больны цингою и язвами, а частью грязны и в одних лохмотьях. Но отнести это следовало не Компании, а собственной их нерадивости, а также небрежению со стороны лейтенанта Машкина, коему поручено было всех этих людей отправить на своем бриге в Америку еще осенью. Убоясь несильной течи в трюме и осенних непогод, Машкин зазимовал в Петропавловске, чем причинил Компании великие убытки...
Слыша обидные слова капитана, главный комиссионер Компании Федор Иванович Шемелин осмелился вступить в спор:
— Как можете вы, Иван Федорович, судить о деле всей Компании по виду нескольких несчастных, которые и промыслом-то заняты не были, а волею случая провели здесь зиму в безделии?
Г-н Крузенштерн ответил, что судит не только по сей встрече и что насмотрелся он уже на компанейские порядки достаточно, а слышал от верных людей и того более. Несчастные промышленники, коих приказчики кормят вонючей солониной и сухарями с плесенью, настрадавшись и ожесточившись здесь без меры, столь же бесчеловечно будут мучить потом невинных туземцев. И есть тому тоже немалые доказательства.
Шемелин сказал почтительно, однако же с долею досады:
— Странно, господин капитан, слышать такое от человека, которому Компания доверила командование кораблями и свои интересы. Всем ведомо, что вы сами были среди первых, кто замышлял эту экспедицию.
— Думая о плавании, я не ждал, что главная цель его будет одна лишь выгода акционеров Компании, — резко ответил Крузенштерн. — Кроме того, компанейские интересы теперь всецело в руках господина Резанова, поскольку угодно ему было объявить себя начальником экспедиции, а мне оставить лишь управление парусами.
— Однако же Николай Петрович отправляются в Америку, и мне ли напоминать вам, что ваш долг закончить предприятие с наилучшей пользой для Компании, у которой вы на службе.
Светлые глаза Крузенштерна под глубокой треуголкой нехорошо блеснули.
— Господин главный комиссионер! Офицеру Российского флота действительно нет нужды выслушивать от купцов напоминания о долге. Смею заверить вас, что я не оставлю экспедицию, как это делает господин Резанов, измыслив для сего пустые причины.
Шемелин сказал, что оговаривать решения его превосходительства Николая Петровича, который поставлен над ними государем императором, возможным не считает. К тому же господин Резанов, как известно, не отдыхать едет, а в нелегкое плавание отправляется для обследования компанейских поселений.
Крузенштерн помолчал и сказал мягко:
— Федор Иванович, мы с вами на одном корабле немало общей каши съели, и я вижу давно, что человек вы умный, просвещенный и обязанности свои исправляете отменно. Жаль только, что ваши должности понуждают вас не видеть ничего далее сугубых выгод компанейских... Но посудите сами, может ли моряк, впервые пошедший кругом Земли, интересы плавания ограничить пользою торговой компании? Новые открытия в науках и описания неизвестных земель — не в пример ли важнее для отечества?
— Так и я, Иван Федорович, пекусь о том же, — нашелся Шемелин. — Коль скорее закончим выгрузку, больше времени останется для плавания около Сахалина.
Крузенштерн добродушно, однако с некоторой неохотою, посмеялся и сказал, что ранее, чем прибудет из Нижнекамчатска губернатор генерал Кошелев, отправляться все равно нельзя, поскольку у капитана с губернатором важные дела.
Это был еще один шаг против Резанова. Тот инструкцией своею торопил капитана “Надежды” с отходом к Сахалину, а Крузенштерн тянул, ожидая встречи с губернатором. Он надеялся, что Кошелев во всем разберется справедливо и доложит в Петербург: Резанов не пожелал идти в Америку на “Надежде” без всякого к тому повода со стороны корабельных офицеров. Без такого свидетельства возвращение в Россию могло быть просто опасным.
...Про все это думал Шемелин в то теплое и пасмурное утро на пристани, глядя, как подходит очередной баркас с “Надежды”. Здесь нашел Ивана Федоровича солдат и сообщил, что его превосходительство требует господина Шемелина к себе.
Как и в прошлый приход на Камчатку, Резанов квартировал в доме коменданта порта. Шемелина он встретил в приземистом зальце с тесаными столбиками-колоннами, которые придавали деревянному помещению некоторую европейскую торжественность.
Шемелин поклонился. Резанов встал из-за широкого, крытого зеленым сукном с кистями стола. Он был в мундире и при шпаге.
— Господин Шемелин, — проговорил Резанов с неожиданной ноткой волнения. — Как вам уже известно, дальнейшее пребывание мое на корабле “Надежда” в обществе господина Крузенштерна и других господ офицеров, ему подчиненных, счел я для себя несообразным и посему хотел отказаться от дальнейшего плавания, закончив свою миссию обозрением Камчатской области. Но счастливый случай, доставивший в Петропавловск бриг “Марию”, дает мне возможность до конца выполнить высочайшее предначертание и посетить наши американские владения. Вам же надлежит после плавания “Надежды” к Сахалину отправиться с господином Крузенштерном в Кантон с компанейскими мехами, где и произвести коммерцию со всевозможной для Компании выгодой...
Шемелин почтительно молчал, но в молчании пряталось удивление. Зачем его превосходительство повторяет то, что всем уже известно, да еще с такой торжественностью?
Резанов же плавно протянул к столу руку и открыл окованную серебром шкатулку, в которой держал свои важные бумаги.
— Господин Шемелин... — голос его сделался ласковее, но торжественность не пропала. — Судьба велит нам расстаться после того, как мы столько были вместе среди трудов и опасностей. Но прежде чем это случится, я хочу изъявить вам сердечную признательность за поведение ваше и службу и возложить на вас отличие, которое вы заслужили...
После того вынул он из шкатулки золотую медаль, тяжело повисшую на голубой кавалерской ленте ордена Святого Андрея. Однако же на смущенного Шемелина не надел, а положил на край стола. А из шкатулки достал шелестящий лист и начал читать, сам увлекаясь все более высотою слога и важностью минуты:
— Его императорское величество, обращая высокомонаршее внимание к трудам, на пользу отечества подъятым, высочайше уполномочить меня соизволили отличать наградами тех, коих заслуги окажутся оных достойными.
И так далее. Он долго читал, а Шемелин слушал без радости и даже со страхом. Что и говорить, награда высокая, но разве один он ее достоин? Какие бы раздоры ни случались у посланника с моряками, но без умелых офицеров и матросов никакого плавания, никаких открытий и заслуг не было бы вообще. А господа ученые! Разве мало сделали они для пользы науки российской в этой экспедиции? Господин же Резанов наградою отмечает одного главного приказчика, явно показать желая, что у иных участников экспедиции заслуг не видит и не признает.
Конечно, на то воля Начальника. Однако же его превосходительство отбудет скоро к островам американским, а ему, Федору Шемелину, с Крузенштерном и другими моряками плыть вместе до самой России. Как посмотрят спутники на эту медаль?
— Ваше превосходительство... — осторожно начал Шемелин. — Мне и слов не найти, чтобы в полной мере выразить чувствительную благодарность за ваши милости. Потому что одним только вашим милостям я и обязан столь высокою наградою. Ежели взглянуть беспристрастно, то все, что я делал до сих пор, были только самые обыкновенные труды, кои я и без всякой награды исполнять был обязан. Посему, не заслужа, стыжусь принять и носить сие отличие. Не лучше бы, ваше превосходительство, получить мне его, когда экспедиция благополучно положит якори в Кронштадтской гавани? И за особое счастие почел бы я тогда получить награду эту из собственных рук вашего превосходительства. Пока же предприятие сие не закончено...
Говорить Шемелин умел, в жизни немало пришлось иметь дел с высокоучеными господами, да и книг умных прочел он множество. Сейчас, однако, понял, что речь свою затянул чрезмерно.
Резанов смотрел на него с изумлением, с досадою, а потом и с гневом. Лицо посланника пошло малиновыми пятнами.
— Что это говорите вы, сударь! — наконец закричал он. — Предприятие не закончено! Что это значит? Хотите ли вы сказать, как некоторые, что я экспедицию оставляю раньше сроку и тем долг свой исполняю недостаточно? Не предписано ли мне государем императором выбирать средства к наилучшему завершению дел по своему усмотрению?! От многих людей здесь мог я ожидать неповиновения и непочтения, но от вас... Любой на вашем месте счастлив был бы такой наградою! Скажите, сударь, что стало причиною такой неблагодарности и грубости вашей?!
Он долго кричал еще, гневно топоча тонкими шелковыми ногами и теребя красные обшлага мундира. Паричок сбился. В глазах блестели капельки слез.
Навернулись слезы и у Шемелина. Он понял, что далеко зашел в своей щепетильности. Единого слова Резанова достаточно, чтобы обрушить на главного комиссионера Компании великие немилости и несчастья. Но пуще страха была обида. Может, подвигов он и не совершал, но не служил ли разве всей душою Компании? Не был ли Резанову надежным помощником?
Теперь одна оставалась надежда, что при своем переменчивом нраве Резанов гнев изольет быстро и успокоится.
Когда его превосходительство, часто дыша и утирая лицо, замолчал, Шемелин сказал тихо, но с достаточной твердостью:
— Воля ваша, Николай Петрович, как в милости, так и в немилости. Простите, если огорчил вас. Но одно скажу еще: в преданности моей и усердии вам сомневаться не должно.
Резанов скомкал и затолкал за обшлаг кружевной платочек, постоял, наклоня голову, потом поднял лицо и... улыбнулся. И, шмыгнув носом, будто дитя виноватое, сказал негромко:
— Прости и ты меня, Федор Иванович. — Шагнул, встал на цыпочки, поцеловал его, большого и бородатого, в щеку. — Столько досад со мною приключилось, что иногда себя не помню и забываю, кто мне истинный друг...
Шемелин стоял смущенный и растроганный.
Резанов отошел опять на шаг и проговорил потверже, но и здесь не без ласковости:
— Пусть будет по-вашему, Федор Иванович, оставим до Петербурга, хотя не находил я никаких препятствий, чтобы здесь оказать вам справедливость. Вы, господин Шемелин, человек редкий...
Утром 24 июня 1805 года офицеры “Надежды” беседовали на шканцах и смотрели, как вытягивается к выходу из гавани бриг “Мария”. Матросы компанейского судна, вразнобой махая веслами, завозили на сотню сажен якорь-верп и бултыхали его со шлюпки. На бриге скрипел на всю гавань шпиль — мотал якорный канат, и судно ползло по серой с проблесками солнечной ряби воде.
— Что ни говорите, господа, а камергер Резанов — человек храбрости небывалой, — заметил Ратманов. — Иначе как решился бы он идти в плавание на судне с такой командою? — И Макар Иванович кивнул на шлюпку. — Ну да от нас, конечно, хоть куда сбежишь...
— Напрасно смеетесь, Макар Иванович, — сказал Крузенштерн. — Здешние жители не виноваты, что среди них недостает искусных моряков. Дело в будущем поправимое, если возьмутся за него умелые люди.
Ратманов хотел возразить, что коли и смеется, то не над командою брига... Но в тот момент с левого борта подошел комендантский баркас и на палубу поднялся гарнизонный офицер.
— Господин капитан! Господа! Поручено мне комендантом сообщить, что его превосходительство Николай Петрович сегодня отбывают. Комендант просит всех пожаловать к обеду, проводить его превосходительство...
Офицеры смотрели на Крузенштерна. Он сказал:
— Я уже имел честь обговорить с господином Резановым все, что касается дальнейшего нашего плавания, и не смею более отнимать его время. Что же касается обеда, то как раз в этот час должно мне быть на корабле по крайней служебной надобности. Принесите господину коменданту мои извинения.
— А... другие господа офицеры? — спросил простодушный пехотный поручик.
— Что до господ офицеров, то сие на их усмотрение.
Офицеры один за другим сослались на неотложные дела. Только лейтенант Головачев молчал. И все в конце концов взглянули на него. Он покраснел и голосом, в котором чуть ли не слезинки перезванивались, но твердо проговорил:
— Ежели господин капитан не укажет мне на твердую необходимость быть по службе на корабле, я не вижу причины не поехать проводить Николая Петровича Резанова.
Всем стало жаль его. Мичман Беллинсгаузен даже закашлялся от неловкости, а Ратманов сказал с непривычной мягкостью:
— Да и мы не видим причины. Что вы в самом деле, Петр Иванович? Езжайте, коли есть желание...
В этой мягкости, однако, опять почудилась Головачеву усмешка, и он, резко отвернувшись, сказал посланцу коменданта:
— Едем, господин поручик.
Головачев ехал на берег с грустью. И с досадою на весь белый свет: на офицеров — товарищей своих по кораблю, на себя (непонятно отчего) и даже на Николая Петровича. Но сильнее досады была затаенная надежда на чудо.
Умом Головачев понимал, что мысли его — вроде тех сказок, которыми утешал он себя в детские годы, в бытность в корпусе, когда подкрадывалась нестерпимая тоска по дому или закипали слезы обиды на бойких и насмешливых товарищей по роте. Ночью, утыкаясь мокрым лицом в казенную подушку, мечтал тогда Петя, что однажды посетит их Морской шляхетный корпус матушка-императрица Екатерина Великая. И проходя перед линией выстроившихся во фрунт воспитанников, заметит небольшого роста, но на диво подтянутого и ясного лицом кадета из младших классов.
— Как твое имя? — ласково спросит государыня.
— Головачев Петр, ваше императорское величество!
— Молодец... А скажи-ка, голубчик, — обратится государыня к директору корпуса Голенищеву-Кутузову. — Каковы успехи Головачева Петра? Радеет ли?
Кутузов — вице-президент адмиралтейств-коллегии и прочая, и прочая, — бывающий в своем корпусе не многим чаще самой императрицы, растерянно смотрит на инспектора классов Николая Гаврилыча Курганова. Тот поспешно делает шаг вперед:
— Успехи отменные, ваше императорское величество! В изучении всех наук показал изрядные способности и прилежание. Поведения также весьма похвального.
— Отрадно сие... Однако же... — Матушка-императрица глядит в лицо замершему от сладкого страха кадету Головачеву. — При таком расположении и душа должна радоваться. Отчего же глаза у тебя, Петя, невеселые?.. Далеко ли твои родители?
— Так точно, ваше императорское величество, — сипловатым от набежавших слез голосом говорит он. — В Калужской губернии. Батюшка в отставке уже... Я полгода не видел его и маменьку...
Голенищев-Кутузов бледнеет при столь неприличном и дерзком многословии кадета, но государыня кладет Пете на голову мягкую ладонь и кивает ласково. А затем строго спрашивает директора:
— Не чинит ли кто Петру Головачеву обид?
Его высокопревосходительство лепечет, что “никак нет, даже и невозможно сие”, но от матушки-императрицы скрыть ничего нельзя, каждого она видит до самой души, и побледневшие Филипп Кушелев и Евлампий Левенгарц, кои вчера отобрали посланные из дому сласти да еще смеялись обидно и обзывали неженкой, опускают в великом смущении головы. Да и братья (старший — Андрей и двоюродный — Петр Головачев-первый), вспомнив, как не хотели заступиться за Петю, чтобы не ссориться с товарищами, теперь белы от страха.
И говорит великая государыня директору:
— С обидчиками учинить разбирательство и всех, кто виновен, наказать примерно...
Тогда Петя вытягивает шею, глядит на матушку-государыню во все глаза и говорит умоляюще:
— Простите их, ваше императорское величество! Вы же такая добрая! А они ведь не со злости, они просто по неразумению. Я им дурного не хочу, только пусть больше не пристают!
— Ну, коли так... — улыбается государыня. А на тех глядит строго: — Но смотрите у меня...
А потом говорит она директору корпуса:
— Ведомо ли тебе, генерал, что есть у меня мысль устроить в Ораниенбауме отдельный класс для особо прилежных и к навигаторскому и военному на море делу способных мальчиков? С тем чтобы из них выходили скорее других славные офицеры для моих кораблей? Вот и решила я, что Петр Головачев будет там среди первых воспитанников. А чтобы беспокойство о родителях не мешало его учению, надлежит им переехать в Санкт-Петербург, для чего жалую я отцу Петра Головачева добавочный пенсион и в столице каменный дом со службами...
...Ох, сказки, сказки. Хоть и понимал всю их несбыточность, а на какое-то время утешали.
Но стоит ли сейчас утешаться пустыми мечтаниями? Не дитя уже. Двадцать пять лет прожил и повидал немало. Пороху успел понюхать в девяносто восьмом году, когда наши корабли вместе с англичанами блокировали берег Голландии. В штормах бывал и ураганах, причем в таких, когда многие не робкого десятка люди прощались с жизнью, а он страха не показывал. И теперь вот обошел полсвета и дело свое исправлял не хуже других, капитан Крузенштерн подтвердить это может по совести.
Хотя и молод лейтенант Головачев, но позавидовать его морскому умению могут старые служаки, которые за всю жизнь не видели ничего, кроме Кронштадта, Ревеля и ближних балтийских берегов. Пора бы лейтенанту и внутри себя обрести твердость. Но до сих пор, когда он в тесной каюте своей не спит после вахты и вспоминает все твердосердечие людей друг к другу, все неясности в жизни и обиды, приходит жалость к себе. И, как в детстве, хочется, чтобы случилось чудо.
Вот и сейчас, под равномерное повизгивание уключин, под ровное покачивание зыби, накатывают мысли о невозможном.
...Резанов улыбнется навстречу ласковой своей улыбкой:
— Петр Иванович, голубчик, после всего, что проплыли мы вместе, зачем же расставаться? Отчего не отправиться вам со мною на Кадьяк и далее к американским берегам, а господин Крузенштерн пусть возьмет вместо вас господина Давыдова или господина Хвостова, коих назначил я вначале своими попутчиками. Тоже офицеры и тоже моряки отменные... Ваше же возвращение в Санкт-Петербург хотя и задержится, но зато польза от совместного нашего вояжа в Америку будет немалая...
Нет, несбыточно это.
А почему несбыточно?
Да потому, что ежели бы хотел того Резанов, то высказал бы такое предложение сразу, как решил плыть на “Марии”.
Но, может, сперва недосуг было думать о Головачеве, а сейчас вспомнил? Можно ли помыслить, что совсем не помнит Николай Петрович того доброго, что было между ними в плавании после Нукагивы?
Отчего так тянуло Головачева к Резанову? Может быть, кто-то незнакомый с ними обоими подумает впоследствии, что лестно было молодому лейтенанту дружеское знакомство с близким царю вельможею. Или, чего доброго, придет мысль, что боялся Головачев быть замешанным среди других офицеров в дерзком неповиновении посланнику? Но все, кто знают второго лейтенанта “Надежды”, не могут, не покривив душой, обвинить его в трусости или подобострастии начальству. Известно на корабле и в Петропавловске, что-в прошлом пребывании на Камчатке, когда Резанов обвинял Крузенштерна в бунте, объявил его лишенным капитанской должности и предлагал всем по очереди офицерам принять начальствование над кораблем, Головачев ответил, как и прочие:
— Ваше превосходительство, кроме господина Крузенштерна, никого представить капитаном на “Надежде” невозможно. В нем одном офицеры и служители видят командира. Не мне судить о его вине перед вами, он капитан мой, и принять ваше предложение для чести офицера флота было бы немыслимо.
Не разгневался тогда Резанов, не кричал, как на других, не укорял, а только сказал печально:
— Ну, что же, Петр Иванович, мне ведомо, что вы всегда поступаете по совести.
И кто знает, может быть, и эта беседа, а не только уговоры губернатора Кошелева повернули Резанова к миру с Крузенштерном. Непрочным, правда, оказался мир, хватило его лишь на плавание в Японию. Сейчас Резанов ушел с “Надежды” окончательно. И забыл лейтенанта, который душевно сочувствовал ему в тяжелые месяцы.
Почему сочувствовал? Потому что казалось ему, Петру Головачеву, что чем-то похожи они с Резановым мыслями и характерами. Похожи, несмотря на разницу в годах и званиях. Чудилось Головачеву, что угадал он в Резанове незащищенную душу, понял его одиночество и тоску по искреннему другу.
А где взять такого друга на маленьком корабле посреди громадного и неведомого океана? Офицеры были врагами, в свите оказались люди пустые и к душевным терзаниям начальника своего равнодушные. Только Шемелин оставался надежен, но в своем звании приказчика был Федор Иванович скорее на положении слуги, нежели товарища. Вот и потянулся Резанов к Головачеву, видя в нем одном сердечного собеседника и понимающего человека.
А потом, обретя силу и уверенность, утвердивши свое звание начальника, забыл о том, кто не побоялся пойти против товарищей ради его, Резанова, защиты.
Но забыл ли? А может быть, сегодня все-таки скажет: “Господин Головачев, зачем же, расставаться нам?”
Резанов ничего не сказал. Ничего, что изменило бы судьбу лейтенанта Головачева. Он улыбался ласково, подержал Петра Ивановича за руки, говоря, что трогательно рад его приезду и дружеской верности. Но... вот и все. После Резанов не выделял уже Головачева из числа провожающих.
С частью из них Резанов чувствительно обнялся и расцеловался на берегу, другие же поехали провожать его на “Марию”, которая стояла уже за пределами гавани, в губе. День был тихий и нежаркий, с влажностью в воздухе и горами облаков, из-за которых солнце опускало на зеленоватую воду косые столбы лучей. Со шлюпки поднялись все на палубу “Марии”, где его превосходительству рапортовал по форме командир брига лейтенант Машкин — человек малообразованный, со злым землистым лицом, известный тем, что недавно люто наказал своего матроса кошками, и того в беспамятстве свезли на берег. Резанов, однако, кивнул ему с любезностью, а затем опять пошли объятия и поцелуи с провожающими.
— Прощайте, прощайте, друзья мои, — говорил Резанов. Голос его дрожал, и все ощущали искреннюю горечь. У Шемелина в бороде запуталась искристая капелька, остальные тоже вытирали слезы. — Коли судьба разрешит, свидимся в Санкт-Петербурге по окончании всех путешествий наших. Ежели кто не вернется, на то воля божия. Будем же помнить друг друга до конца дней. Прощайте...
Через день Шемелин записал в своем журнале:
“Прощайте”, — твердил он и тогда, когда мы, оставя уже его, были на шлюпе и находились на довольной от судна отдаленности, — отголосок поразительный для сердец, любящих сего Начальника. С полудня в 5 часов 14 числа “Мария”, пользуясь попутным ветром, подняла якори и скоро скрылась из глаз наших”.
Головачев растроган был при прощании не менее остальных. Он уже не мечтал о чуде и обиды на Резанова не чувствовал. Все заслонила горечь расставания.
Но когда шлюпка подходила к “Надежде”, новая, непохожая на прежнюю печаль, тоска сдавила Головачеву грудь.
Это был первый приступ той скручивающей душу тоски, которая потом не раз черной гостьей приходила к Головачеву...”
Тоскливо снова сделалось и Толику. До слез.
Подошел Султан, ткнул Толика носом под локоть: ты чего?
А чего он, в самом деле?
Будто наяву, Толик видит невысокую корму с решетчатыми окнами и надписью “Марiя”, человека на этой корме. Человек поднял треугольную шляпу и повторяет с горечью: “Прощайте, прощайте...” И печальное эхо разносится над водой. И здесь, сейчас, отдается в комнате. В ушах у Толика отзывается.
Это слово не Резанов говорит друзьям. И не Головачев ему отвечает. Это, видимо, Толик прощается с робингудами.
Он, Толик, тоже оставил экспедицию на полпути...
“Ну, что я такого сделал?! Никаких важных дел там не было, никто из-за моего ухода не пострадал! И я же не начальник был... Я объяснил, что домой надо, и они сказали: “Иди...”
“И ты пошел, потому что боялся. И все это видели”.
“Если бы сказали: “Не ходи”, я бы остался”.
“А они не сказали, хотели испытать тебя. И поняли, что ты трус”.
“...А может, все-таки не поняли?” — с горькой надеждой подумал Толик.